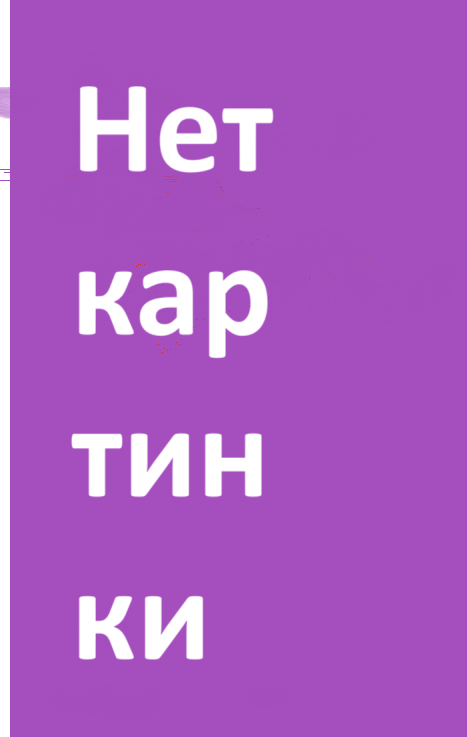Шрифт:
De omnibus dubitandum. [1] Теперь уже среди философов осталось мало правоверных гегельянцев, но Гегель все еще продолжает владеть умами наших современников. Некоторые идеи его и теперь, пожалуй, пустили более глубокие корни, чем в эпоху расцвета гегельянства. Например, мысль, что история есть раскрытие идеи в действительности или, выражаясь кратко и в терминах, более близких современному уму, идея прогресса. Попробуйте переубедить в этом пункте образованного человека: наверное потерпите поражение. Но - de omnibus dubitandum - иначе говоря, в тех случаях, когда убеждение особенно крепко и непоколебимо, сомнение и призвано исполнить великую свою миссию. А потому, хочешь не хочешь, приходится сделать допущение, что так называемый прогресс, т. е. развитие человечества во времени - есть фикция. Хотя у нас есть беспроволочный телеграф, радий и все прочее, но все же мы стоим не выше древних римлян или греков. Допускаете?
1
Всё подвергать сомнению (лат.).
В таком случае еще один шаг: хотя у нас есть беспроволочный телеграф и все прочие блага цивилизации, а все же мы стоим не выше краснокожих и чернокожих дикарей. Вы протестуете - но принцип обязывает: начали сомневаться, так уже нечего пятиться.
В свой черед я должен признаться, что мысль о духовном совершенстве дикарей явилась у меня, когда недавно, впервые после многих лет, я случайно пересматривал сочинения Тайлора, Леббока и Спенсера. Они до такой степени уверенно говорят о преимуществах нашей душевной организации и так искренне презирают нравственное убожество дикарей, что я поневоле подумал: не кроется ли именно здесь, где все так уверены, что никто никогда не проверяет,
Самоотречение и mania grandiosa. [2] Нужно думать, что ничего верного ни о самоотречении, ни о мании величия сказать не удастся, хотя каждый из нас по собственному опыту знает кой-что и о первом, и о второй. Но, как известно, невозможность разрешить вопрос никогда еще не удерживала людей от размышлений. Скорее наоборот: наиболее заманчивые для нас вопросы это те, на которые нет настоящего, обязательного для всех ответа. Я надеюсь, что рано или поздно философия получит, в противоположность науке, такое определение: философия есть учение о ни для кого не обязательных истинах. Этим раз навсегда будет устранен столь часто посылаемый ей упрек, что собственно философия сводится к ряду взаимно опровергающих мнений. Это - верно, но за это ее хвалить, а не упрекать надо, в этом нет ничего дурного, в этом есть много, очень много хорошего. А вот что у науки есть общеобязательные суждения - это дурно, мучительно дурно. Ведь всякая обязательность только стеснение. Временно можно согласиться на стеснение, надеть корсет, вериги, временно можно на что угодно согласиться. Но кто добровольно признает над собой вечный закон? Даже у спокойного и ясного Спинозы мне слышится порой глубокий вздох. И я думаю, что это он вздыхает по свободе - он, растративший всю свою жизнь, весь свой гений на прославление необходимости... После такого предисловия можно уже говорить что угодно.
2
Мания величия (лат.).
Мне кажется, что и самоотречение, и mania grandiosa, как, по-видимому, мало они ни похожи друг на друга, могут быть наблюдаемы последовательно, даже одновременно в одном и том же человеке. Аскет, отказавшийся от жизни, смиряющийся пред всеми и сумасшедший (вроде Ницше или Достоевского), утверждающий, что он есть светоч, соль земли, первый во всем мире или даже во вселенной, и тот, и другой приходят к своему безумию (надеюсь, нет надобности доказывать, что самоотречение, как и мания величия, есть вид безумия) при условиях, большей частью тождественных. Мир не удовлетворяет человека, и он начинает искать лучшего. Всякие же серьезные искания приводят человека на одинокие пути, а одинокие пути, как известно, кончаются китайской стеной, роковым образом полагающей предел человеческой пытливости. И вот возникает задача: воспротивиться року и так или иначе перебраться через стену, преодолев либо закон непроницаемости, либо столь же непреоборимый закон тяготения. Иначе говоря, обратиться либо в бесконечно малую, либо в бесконечно большую величину. Первый способ и есть самоотречение: мне ничего не нужно, я сам ничтожество, я бесконечно мал и, стало быть, могу пройти через бесконечно малые поры стены.
Второй способ - mania grandiosa. Я бесконечно силен, бесконечно велик, я все могу, могу разбросать стену, могу перешагнуть через нее, хотя бы она была выше всех гор земных и до сих пор отпугивала даже самых могучих и самых смелых. Таково, вероятно, начало двух загадочнейших и величайших душевных превращений. Нет ни одной религии, в которой бы с большей или меньшей ясностью не отпечатлелись бы следы описанных выше приемов борьбы человека с ограниченностью его сил. В аскетических религиях преобладает тенденция к самоотречению: буддизм прославляет полное уничтожение личности и идеалом считает нирвану. Древние греки мечтали о титанах и героях. Евреи считают себя избранным народом и ждут Мессии. Что касается Евангелия, - то трудно сказать, какому способу борьбы здесь отдается предпочтение. С одной стороны - великие чудеса: воскрешение мертвых, исцеление больных, власть над ветрами и морем, с другой стороны: блаженны нищие духом, Сын Божий, который будет некогда сидеть одесную силы, теперь живет в обществе мытарей, нищих, блудниц и служит им. Кто не за нас, тот против нас, обещание низвергнуть врагов к подножию ног и в геенну огненную, вечная пытка за хулу на Духа Святого - и наряду с этим заповедь величайшего смирения и любви к врагам: ударившему по одной щеке повелевается подставить другую. Евангелие все сплошь пропитано противоречиями, не внешними, не историческими и фактическими, а внутренними, противоречиями в настроениях, в "идеалах", как выразился бы современный человек. Что возносится в одной главе, как высшая задача, то низводится в другой, как недостойное дело. Нет ничего удивительного, что самые противоположные учения нашли себе оправдание в этой небольшой, наполовину состоящей из повторений книге. Христианами называли себя и инквизиторы, и иезуиты, и древние подвижники, христианами называют себя и современные протестанты, и наши русские сектанты. В большей или меньшей степени все правы, даже, пожалуй, и протестанты. В Евангелии скрещиваются столь противоположные течения, что люди, в особенности люди большой дороги, умеющие двигаться лишь в одном направлении и под одним, всем видимым знаменем, люди, привыкшие верить в единство разума и непререкаемость логических законов, никогда не могли охватить целиком евангельского учения и всегда стремились придать словам и делам Христа единообразное, исключающее противоречия и более или менее соответствующее обычным представлениям о делах и задачах жизни толкование. "Уверуй, и по твоему слову сдвинется гора" - читали они в загадочной книге и понимали это в том смысле, что всегда, ежечасно и ежеминутно нужно думать и желать одного и того же, заранее предписанного и вполне определенного. Меж тем, Евангелие разрешает и благословляет в этих словах самые безумные и рискованные опыты. То, что есть, для Христа не существовало и существовало лишь то, чего нет.
Древний римлянин - Пилат, например, по-видимому, образованный, умный и недурной, хотя слабохарактерный человек, недоумевал и не мог дать себе отчета, из-за чего тут происходит такая страшная борьба. Ему от всей души было жаль приведенного к нему бледного молодого еврея, очевидно, ни в чем неповинного. "Что есть истина?" - спросил он Христа. Христос не ответил ему, да и не мог ответить - не по "невежественности", как хотели думать язычники, а потому, что словами на этот вопрос и ответить нельзя. Нужно было, метафорически говоря, взять Пилата за голову и повернуть в другую сторону, чтоб он увидел то, чего никогда не видел. Или, еще лучше, прибегнуть к тому способу, которым пользуется в сказке конек-горбунок, чтоб обратить сонного Иванушку в умницу и красавца: сначала в котел с кипящим молоком, потом в другой - с кипящей водой, потом в третий с водою студеной. Есть все основания думать, что после такой подготовки Пилат стал бы иначе спрашивать. Мне кажется, что конек-горбунок согласился бы, что самоотречение и mania grandiosa вполне могут заменить предлагаемые сказкой котлы.
Великие лишения и великие иллюзии до такой степени меняют природу человека, что казавшееся невозможным становится возможным и недостижимое - достижимым.
Вечные истины.
Ксенофонт в Меморабилиях рассказывает про встречу Сократа с знаменитым софистом Гиппием. Когда Гиппий пришел к Сократу, последний, по обыкновению, вел беседу и, по обыкновению же, удивлялся тому, что люди, когда им нужно обучиться плотницкому или кузнечному ремеслу, знают, к кому обратиться, но если пожелают научиться добродетели, не могут никак найти учителя. Гиппий, который уже много раз слышал от Сократа эти рассуждения, иронически заметил: "Неужели ты и теперь, Сократ, говоришь все то же, что я давно когда-то слышал от тебя?" Сократ понял и принял вызов, как вообще всегда охотно принимал такого рода вызовы. Начался спор, из которого выяснилось, что на этот раз (как и всегда у Платона и Ксенофонта) Сократ оказался более сильным диалектиком, чем его противник. Ему удалось доказать, что его понятие о справедливости имеет столь же незыблемое основание, как и все прочие, высказываемые им суждения, и что вместе с тем однажды составленные убеждения, если они истинны, так же мало подвержены действию времени, как благородные металлы действию ржи.Сократ жил 70 лет, был однажды юношей, однажды мужем, однажды стариком. Но если бы он прожил сто сорок лет, второй раз испытал все три возраста жизни и потом снова встретился с Гиппием? Или, что еще лучше, - если душа, как учил Сократ, бессмертна и Сократ в настоящее время живет где-нибудь на Луне, Сириусе или в ином предназначенном для бессмертных душ месте, неужели он и там до сих пор донимает своих собеседников разговорами о справедливости, плотниках и кузнецах? И теперь, как когда-то, выходит победителем из спора с Гиппием и другими людьми, решающимися утверждать, что законам времени может и должно подчиняться все, в том числе и человеческие убеждения и, что от такого рода подчинения человечество не только ничего не теряет, но даже много выигрывает.
Земля и небо. Слово "справедливость" на устах у всех. Но в самом ли деле справедливость в такой цене у людей, как это может показаться, если поверить тому, что о ней говорилось и говорится? Более: ценят ли ее в такой мере ее присяжные защитники и хвалители-поэты, философы, моралисты, богословы - даже лучшие из них, наиболее искренние и даровитые? Я позволю себе очень и очень сомневаться в этом. Посмотрите творения любого мудреца древнего и нового мира. Справедливость - если ее понимать как равенство всех живых людей пред законами творения - а как ее иначе понимать?
– никого никогда не занимала. Платон ни разу не спрашивает судьбу, отчего она Терсита создала презренным, а Патрокла - благородным. Платон убеждает людей быть справедливыми, но ни разу не решается допросить богов по поводу их несправедливости. Если вслушаться в его речи, то, пожалуй, иной раз западет в душу подозрение, что справедливость есть добродетель для смертных, у бессмертных же свои собственные добродетели, ничего общего со справедливостью не имеющие. И вот последнее искушение для земной добродетели. Мы не знаем, смертна или бессмертна человеческая душа. Одни, как известно, верят в бессмертие, другие такую веру высмеивают. Если бы оказалось, что и те и другие неправы и что судьба людей после смерти, как и при жизни, далеко не одинакова: удачники, избранники переселяются на небеса, остальные остаются гнить в могилах и гибнуть вместе со своей смертной оболочкой. Такое допущение, мимоходом правда, делает наш русский пророк, жрец любви и справедливости Достоевский в "Легенде о великом инквизиторе". Так вот, если бы оказалось, что Достоевский действительно бессмертен, а бесчисленное количество его верующих учеников и поклонников, та огромная масса серого (во всех смыслах) люда, о которой идет речь в "Великом инквизиторе", кончает свою жизнь со смертью, как и начинает с рождения - примирился ли бы человек, и не какой-нибудь первый попавшийся, а хотя бы сам Достоевский, которого я здесь не случайно назвал, а умышленно, как наиболее горячего защитника идеи справедливости (на земле бывали еще более горячие, страстные и замечательные защитники справедливости, может быть, их следовало бы назвать, - но на этот раз я не хочу кощунствовать, - кому Достоевский покажется малым, пусть сам назовет другого), итак, примирился ли бы Достоевский с такой несправедливостью, т. е. восстал бы ли он в загробном мире против неправды или, заняв уготовленное ему там место, позабыл бы о своих бедных братьях? A priori [3] судить трудно, но a posteriori [4] нужно думать, что забыл бы. Ведь между Достоевским и мелким провинциальным писателем, между первыми и последними на земле тоже разница колоссальная, и несправедливость такого неравенства вопиет к небесам. Тем не менее мы, ничего, живем здесь и не вопим, а если и вопим, то очень редко, причем, по правде говоря, трудно с уверенностью сказать, отчего, собственно, мы вопим: оттого ли, что хотим привлечь внимание равнодушного неба, или оттого, что среди наших ближних есть много любителей воплей (литературных дарований). Вроде странницы в "Грозе", которая страсть любила, когда кто хорошо воет. Все эти соображения могут показаться особенно важными тем, которые, подобно мне в настоящую минуту (за завтрашний день не ручаюсь) разделяют суждение Достоевского, что если и существует бессмертие, то, разумеется, не для всех, а для некоторых. Причем я еще, в согласии с Достоевским, допускаю, что воскреснут именно те, которых, по существующим предположениям, ждет худшее после смерти. Первые здесь будут первыми и там, а от последних не останется даже и воспоминания. И за погибших некому даже будет вступиться: Достоевские, Толстые и все другие "первые", которым удастся попасть на небо, будут заняты несравненно более важными делами...
3
До опыта (лат.).
4
На основании опыта (лат.).
Теперь, если угодно, продолжайте заботиться о справедливом устройстве на земле и кладите, вслед за Платоном, учение о справедливости в основание философии.
Сила доказательств. Шопенгауэр вопрос о бессмертии души разрешал отрицательно. По его мнению, человек как Ding an sich [5] бессмертен, но как явление - смертей. Иначе говоря, все, что есть в нас индивидуального, существует лишь в промежутке между рождением и смертью, но так как каждый индивидуум, по учению Шопенгауэра, есть проявление "воли" или "Ding an sich", того вечного и неизменного начала, которое представляет из себя единую сущность мира, объективирующуюся во множественности явлений, то постольку, поскольку это начало проявляется в человеке, он - вечен. Таково, говорю, мнение Шопенгауэра, являющееся, по-видимому, последовательным логическим выводом из его общего философского учения как в той части, которая относится к Ding an sich, так и в той, которая относится к индивидууму. Первую часть мы оставим без рассмотрения: в конце концов, если Шопенгауэр ошибался и Ding an sich - смертна, - горе небольшое, подобно тому, как и бессмертию ее нет причин радоваться. Но вот индивидуум: у него отнимается право на бессмертие и в доказательство приводится соображение, на первый взгляд совершенно неопровержимое. Все, что имеет начало, имеет также и конец, говорит Шопенгауэр. Индивидуум имеет начало (рождение), стало быть, его ждет и конец (смерть). Самому Шопенгауэру и положение, и вывод казались до такой степени очевидными, что он ни на минуту не допускал возможности ошибки. А меж тем, на этот раз мы имеем бесспорный случай ошибочного заключения из ошибочной предпосылки. Ибо, во-первых: отчего все, что имеет начало, должно также иметь и конец? Эмпирические наблюдения наводят на такое предположение, - но разве эмпирических наблюдений достаточно, чтоб создавать предпосылки? И разве так добытые предпосылки вправе мы применять в качестве незыблемых положений для разрешения важнейших философских вопросов? А затем, допустим даже, что посылка правильна, все же вывод, к которому пришел Шопенгауэр, сделан неверно. Может быть, действительно, все, имеющее начало, имеет конец, может быть, индивидууму рано или поздно суждено погибнуть, но почему приурочивать момент уничтожения души к смерти тела? Может быть, тело умрет, а душа, которую впоследствии ждет та же участь, хоть немного, не на веки вечные, как думают крайние оптимисты, да поживет еще, разыскавши себе более или менее подходящую материальную оболочку где-нибудь на дальней, может, еще неизвестной нам планете. Как важно было бы бедному человечеству хоть такую надежду сохранить! Тем более, что едва ли мы знаем наверняка, чего желают люди, когда говорят о бессмертии души. Точно ли им непременно нужно вечно жить, или они удовольствовались бы еще одной, двумя жизнями, особенно если бы последующие жизни оказались бы не столь обидно незначительными, как наше земное существование, в котором даже чин XIV класса составляет для многих недосягаемый идеал. Мне кажется, что далеко не всякий согласится жить вечно. А что, если исчерпаются все возможности и начнутся бесконечные повторения?..
5
Вещь в себе (нем.).
Из сказанного, конечно, не следует, что мы имеем право рассчитывать на загробное существование: вопрос по-прежнему остается открытым и после опровержения шопенгауэровских доказательств. Но несомненно следует, что самые лучшие доказательства при ближайшем рассмотрении часто оказываются никуда негодными. Quod demonstrandum erat [6]– разумеется, до тех пор, пока не найдутся доказательства, которые опровергнут мои опровержения доказательств Шопенгауэра. Оговорку эту сделал для того, чтобы лишить критиков удовольствия и возможности поиграть словами.
6
Что и доказано (лат.).