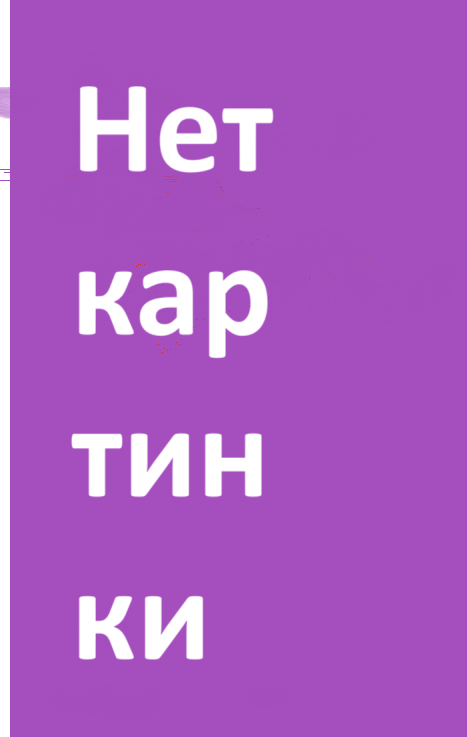Шрифт:
ПРЕДИСЛОВИЕ
Я не претендую в настоящей книге на то, чтобы по-новому истолковать творчество и личность Гоголя, — появление моей книги я могу оправдать лишь тем, что я занимаюсь Гоголем больше 40 лет, что я много писал о нем, постоянно вчитываюсь в его книги и письма, изучая новую литературу о нем. Я хотел бы только подвести итоги моему изучению Гоголя, в цельном очерке дать характеристику художественного и идейного творчества его, осветить и личность его, все еще остающуюся «загадочной» для историков. Исполнившийся только что 150-летний юбилей со дня рождения Гоголя побудил меня теперь же исполнить мое давнее желание написать о нем книгу. Та книга, которую я написал еще в России, но которую я не смог захватить с собой, когда покидал Россию, там и пропала — из нее я успел напечатать в России только небольшую часть (около 10 печатных листов) в журнале «Христианская мысль» (1916—1917 г.). Нынешняя моя книга основана на новом изучении всего материала.
192
ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ
Литература о Гоголе, о его жизни и творчестве очень велика, но до сих пор мы не имеем цельного образа личности
193
признать такие исследования ценными и полезными. Но все такие исследования застревают во внешней стороне творчества Гоголя, как бы и не подозревая, что за внешней оболочкой есть иные «слои», которые, собственно, и нужно было бы исследовать. Что проникать в эти скрытые стороны в творчестве Гоголя возможно, это убедительно показал Д. И. Чижевский в своем замечательном этюде о «Шинели»; Чижевский справедливо указывает на то, что сюжет «Шинели», основная тема этого рассказа совсем не заключается в истории о забитом и ничтожном чиновнике. В том-то и дело, что у Гоголя (начиная даже от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и тем более в дальнейших произведениях вплоть до «Мертвых душ») за внешним сюжетом постоянно проступают иные темы, в которых скрыта художественная острота и сила данного произведения. Если бы удалось вслед за Чижевским проделать ту же работу по всем произведениям Гоголя, нам бы приоткрылся внутренний мир его, его сокровенные интуиции. Так, напр., в тихой идиллии о «Старосветских помещиках» на первом плане (если разобраться глубже в содержании рассказа) стоит тема смерти, в «Невском проспекте» мы найдем продолжение и развитие сюжета, начатого в «Ганце Кюхельгартене» и т. д. Но чтобы убедительно показать это, нужны детальные исследования, подобные этюду Чижевского о «Шинели», — а этих исследований, увы, нет. Гоголь действительно оказывается все еще «неизвестным», не до конца понятым.
В итоге пристального изучения и художественных произведений, и идейных исканий Гоголя выступает с полной ясностью упорная и замечательная самостоятельность Гоголя. Потому так и трудно изучать Гоголя, что он, по французской поговорке, всегда «пьет из своего стакана». Этого не учитывали современники Гоголя, этого не учитывали почти все исследователи его, — и то взаимное трагическое непонимание, которое наметилось в последние годы жизни Гоголя между ним и русским обществом, во многом продолжается и ныне. Гоголя постоянно стилизуют исследователи, равно как и читатели, — вместо того, чтобы овладеть всем содержанием его творчества. Впрочем, тут было немало вины и со стороны самого Гоголя, который часто прикрывал основной свой замысел, основные нити рассказа совсем иной «словесной плотью», как бы намеренно пользуясь ею, как «завесой». Иногда Гоголь и сам не замечал наличности разных слоев в его творчестве, их существенной разнородности — и этим совсем запутывал и читателей, и исследователей.
Как странно, напр., читать в письмах «По поводу „Мертвых душ“» (в «Выбранных местах из переписки с друзьями») приглашение Гоголя сообщать ему разные факты действительной жизни, чтобы этим показать ошибочность или неправду нарисованных в «М. д.» картин! В наивном обращении к русским людям по этому поводу [1] Гоголь как будто ожидал, что эти отдельные факты могут ослабить значение того, что дают различные сцены в «М. д.», — словно такое сопоставление может
194
1
«Служащий чиновник мог бы мне ясно доказать неправдоподобность изображенного мною события приведением двух-трех действительно случившихся дел и тем бы опроверг (!) бы меня лучше всяких слов... Мог бы то же сделать и купец, и помещик...»
что-либо дать. Позже Гоголь признавал, что в «М. д.» отразилось его собственное «переходное» состояние, — но разве в его образах,
в его повествовании не действовала чисто художественная диалектика? Творчество Гоголя всегда было внутренне свободным, т. е. следовало его художественным интуициям и подчинялось лишь имманентной диалектике художественного творчества. При чем же тут «переходное» состояние автора? Ни о каком «давлении» тех или иных идей или размышлений автора на творчество не приходится говорить; значит дело идет о чем-то другом. «Переходное состояние» Гоголя только потому им осознавалось как бы имевшим влияние на творческий процесс, что само творчество его было более сложным, чем это казалось ему. С особенной ясностью это выступает при изучении того, что называется «реализмом» Гоголя и что на самом деле, как мы постараемся показать в главе посвященной Гоголю как художнику, раздвигает и усложняет самое понятие реализма у Гоголя.Очень характерна в этом отношении часто встречающаяся у Гоголя дидактическая тенденция, стремление его направить внимание читателя на те или иные моменты в рассказе, которые без нарочитого вмешательства автора были бы совсем иначе восприняты читателем. Эта дидактическая тенденция, как будто извне привнесенная автором, совсем не означает сосуществования двух разнородных императивов в творчестве, а, наоборот, показывает сложность творческого процесса, многослойность в том, что он преподносит читателю. В качестве примера этого приведем ту знаменитую страницу в «Шинели», где в словах Акакия Акакиевича: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете» — одному (недавно определившемуся) чиновнику послышались другие слова: «Я брат твой». Эти слова кажутся так мало связанными с общей характеристикой Акакия Акакиевича, что невольно рождается мысль, что они родились не от чисто художественного процесса, а были привнесены в силу каких-то внехудожественных мотивов — быть может, от моралистических соображений автора. Действительно, самый портрет Акакия Акакиевича нарисован так остро и едко, можно сказать, беспощадно, почти зло, что сразу трудно понять, зачем здесь вставлена фраза о том, что он «брат» наш. Жалкое, забитое существо во всем рассказе выступает с какой-то беспросветной тупостью (даже когда он «хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, то ел все это с мухами»), — и во всем описании как будто нет и тени того «братского» отношения, которое выдвинуто самим же автором. Его слова о том, что Акакий Акакиевич наш «брат», звучат отвлеченно, точно взяты из какой-то прописи, и так мало вяжутся с тем, что говорит автор о Башмачкине. Не он ли подобрал — явно нарочито — все черты не только забитости Акакия Акакиевича, но и ничтожества его? Не автор ли подчеркнул, что Акакий Акакиевич знал только одну радость — переписывать бумаги, причем, «когда он добирался до буквы, которая была его фаворитом, то он был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами». «Ни одного раза в жизни не обратил он внимания на то, что делается на улице... если на что он и глядел, то видел во всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки...» Все это сказано с такой беспощадностью,
195
что, кажется, нечего и жалеть Акакия Акакиевича... Да, но в описании того, как переживал Акакий Акакиевич шитье своей шинели, все отношение его к шинели, по удачному выражению Чижевского, «изображено языком эроса». Когда Акакий Акакиевич стал копить деньги, чтобы оплатить шитье новой шинели, то он «приучился голодать по вечерам и зато питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его стало полнее, как будто он женился, как будто он был не один, а какая-то подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другой, как та же шинель...» И так же верно замечание Чижевского, что «гибнет Акакий Акакиевич, собственно говоря, от любви», в силу страстного увлечения все той же шинелью, которая и сбила Акакия Акакиевича с толку.
Все это показывает, что изображение смешных сторон в жалком и несчастном чиновнике в какой-то глубине художественной интуиции действительно связано с ощущением нашего с ним братства. Братства нет при остановке на одной внешней картине, где беспросветная тупость Башмачкина мешает чувствовать в нем ту же подлинную человеческую суть, какая есть в нас, но «воспламенение души» Акакия Акакиевича по поводу шинели уже приближает его к нам вплотную. Драма, пережитая несчастным Башмачкиным, разбивает всю начавшуюся для него новую жизнь, — и к этому уже совсем подходят финальные строки повести: «Исчезло и скрылось существо, ничем не защищенное и никому не дорогое, никому не интересное... для которого все же таки, хоть перед самым концом жизни мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь...»
Из этого ясно, что «дидактическая тенденция», призыв видеть в жалком чиновнике брата, вовсе не стояли вне связи с самим образом Акакия Акакиевича. При внешнем подходе к рассказу контраст между беспощадной характеристикой его и призывом видеть в нем брата оправдывает мысль о том, что дидактическая тенденция проистекала совсем из другого источника, чем чисто художественная интуиция, — но все это рассеивается, когда мы углубимся в рассказ. За внешним реализмом в рассказе стоит анализ душевных движений, который широко раздвигает то, что принято считать реализмом Гоголя.
Здесь мы переходим к проблеме творчества Гоголя в том его аспекте, который обычно ускользает от внимания и читателей, и исследователей. Как ни ярка вся реалистическая картина, которую рисует Гоголь, но это только внешняя оболочка, за которой встает сложная тема о человеческой душе. Реалистический рисунок, при пристальном внимании к нему, оказывается очень сложным, таящим в себе иную тему, — и здесь прежде всего надо указать на то, что Гоголь умел как никто вскрывать пошлость в своих героях. Эта тема пошлости, как мы увидим при изучении художественного творчества Гоголя, связана с эстетическими запросами Гоголя и его размышлениями и исканиями в сфере эстетики. Но не только это одно показывает всю сложность «реализма» у Гоголя, не менее важно здесь и то, что я называю «художественным платонизмом» у Гоголя. Мы займемся этим очень важным пунктом в той части