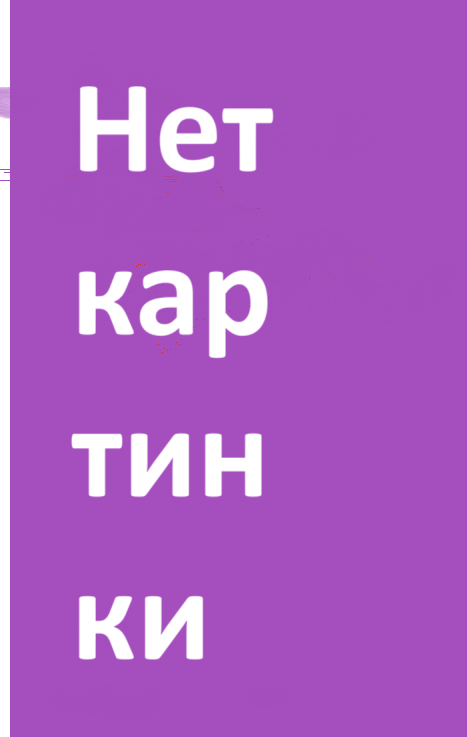Шрифт:
Александр Филиппович ПЛОНСКИЙ
ПЕПЕЛ КЛААСА
Фантастический рассказ
ПЕПЕЛ БЬЕТСЯ О МОЮ ГРУДЬ...
Шарль де Костер. "Легенда об Уленшпигеле".
– Вы ошиблись, назвав академика Воронина покойным, - сказал Вадиму оппонент.
– Неужели он еще жив?
– Можете в том убедиться, навестив его.
– Удобно ли?
– Старик нуждается в общении. Возраст приковал его к дому, а он человек деятельный. Реликт, последний из могикан. Мне довелось слушать его лекции.
– А я знаю академика лишь по книгам.
– Тем более, не упускайте возможности
– И каково оно?
– Видите ли, будучи сам человеком исключительно порядочным, Воронин не ставит человеческую порядочность ни в грош. Впрочем, не буду пересказывать его взгляды, узнаете из первых уст, если, конечно, покажетесь старику достойным доверия. Ну, желаю успеха!
Воронин вовсе не производил впечатления ветхого старца. Сухой, слегка сутулый, в спортивном костюме. Лицо выдублено временем, иссечено морщинами, глаза бледно-голубые, с живым блеском. Волосы белые, с желтизной, словно посеребренные, а поверх слегка позолоченные. Пряди длинные, почти до плеч.
Держался академик непринужденно, даже подчеркнуто просто, разговаривал с Вадимом как равный. Заинтересовался темой диссертации, но сказал:
– Сам бы я за эту проблему не взялся.
– Считаете ее неактуальной?
– Наоборот. Просто выводы оказались бы слишком пессимистичными.
– Говорят, вы не любите людей?
– Вернее, не уважаю, - уточнил Воронин.
– И что сделало вас мизантропом?
– Под мизантропией понимают человеконенавистничество. Я далек от этого.
– Пусть так, - настаивал Вадим.
– И все же?
– Критическое отношение к человеку породила во мне жизнь, - Воронин тряхнул волосами, словно поставил точку на сказанном.
– Извините за назойливость, но как именно?
– Я на несколько поколений старше вас, нам трудно понять друг друга. Тем не менее, попробую объяснить. Слишком часто приходилось видеть, как человек говорит одно, делает другое, а думает третье. На моих глазах не раз происходила инверсия личности, я разочаровывался во вчерашних кумирах.
– Вы имеете в виду культ Сталина, брежневские времена?
– И это тоже. Кстати, вас не удивляет, что и после обнародования данных о жертвах репрессий сталинисты так и остались в большинстве своем сталинистами? Думаете, не поверили? Нет, оправдали. Сработал инстинкт морального самосохранения. Им нужно было сохранить иллюзии - или жизнь пошла бы насмарку. "Сталин - наша слава боевая, Сталин - нашей юности полет", - они продолжали твердить это вопреки рассудку. Иначе - пустота, конец всему.
– Но вы-то не были сталинистом?
– Как сказать... Я - продукт своей эпохи. Такой же выпускник сталинской школы. У нас существовала одна система ценностей. И с этой точки зрения все мы, за редким исключением, были сталинистами, как большинство немцев в начале сороковых - гитлеровцами. Правда, впоследствии я утратил иллюзии. К несчастью.
– Вот как?
– поразился Вадим.
– А тогда вы были счастливы?
– Счастливые люди встречаются во все времена, - уклонился от прямого ответа
Воронин.– И во время войн, эпидемий, культа, застоя. Не удивлюсь, если окажется, что тогда их было больше.
– Иллюзорное счастье?
– Полагаете, это хуже, чем неиллюзорное несчастье?
– Думаю, что да, - сказал Вадим.
– Не знаю, не знаю... Бывает же ложь во спасение!
– Ложь - всегда ложь.
– Когда-то и я так думал. Признавал лишь двоичный код: черное или белое, ложь или правда. А как быть, если в жизни преобладает серое? Если вчерашняя правда обращается ложью, а ложь объявляется правдой? А ведь вообще может быть несколько правд, и от тебя требуют сделать бескомпромиссный выбор между ними, как тогда?
– Но ведь нескольких правд не бывает!
– опешил Вадим.
– Бывает, еще как бывает. У моей матери было два брата - Виктор и Михаил. В гражданскую войну дядя Витя стал белым, дядя Миша - красным. Один из них мог убить другого. Во имя своей неоспоримой правды. Наша беда в этой неоспоримости, в том, что мы не приемлем плюрализма правд.
– И все-таки не могу с вами согласиться.
– Было бы удивительно, если бы согласились. Между нами не только поколения, но и эпохи, причем каждая мыслила по-своему. А я к тому же разошелся в образе мышления со своей эпохой и не сошелся с вашей.
– Но это еще не причина для того, чтобы презирать людей.
– В смысле: не уважать человека?
– Хотя бы так.
– Кажется, наш разговор пойдет по кругу, - с едва уловимым оттенком досады произнес Воронин.
– Я снова скажу об иллюзиях, вы упомянете разоблачение культа личности. Я сошлюсь на свое поколение наивно веровавших в идеалы и в того, чей гений их воплощает...
– А я соглашусь, что следующее поколение не верило ни в бога, ни в дьявола.
– Ни во что не верило, но голосовало "за". И, пожалуй, не одно поколение.
– Надеюсь, о нашем поколении вы этого не скажете?
– О да, поколение созидателей!
– Не иронизируйте!
– обиделся Вадим.
– Если иронизирую, то над собой. Что же касается вашего поколения... Воздержусь от оценок. Слишком часто приходилось разочаровываться.
– Мы тоже иллюзия?
– Риторический вопрос. Адресуйте его потомкам.
– Я так и поступлю.
Воронин сделал нетерпеливое движение.
– Надо полагать, мы исчерпали тему?
– Нет, - возразил Вадим.
– Я все еще не узнал, чем провинился перед вами человек.
– Передо мной? Абсолютно ничем.
– Послушайте... Мне очень важно это знать... Я не нахожу точных определений, но вы-то понимаете... Ну, пожалуйста...
– Неужели девяностолетний старик для вас авторитет?
– смягчился Воронин.
– Когда я был в вашем возрасте, меня меньше всего интересовало мнение старших. Обо всем на свете имел собственное, единственно правильное суждение. А уж каковы масштабы моих тогдашних интересов - земной шар, человеческая масса, класс. И уж если человек, то обязательно вождь или, на худой конец, крупный деятель. Судьба мирового пролетариата волновала меня больше, чем отцовская судьба. Что, опять ухожу от сути? Ну, будь по-вашему. Как вы относитесь к Осипу Мандельштаму?