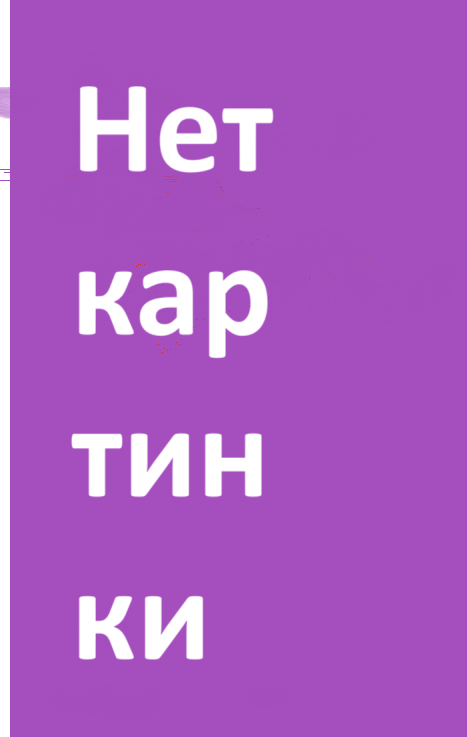Шрифт:
ОТ АВТОРА
Работа, предлагаемая вниманию читателя, написана около пяти лет тому назад (1920-21 г.) на юге России. Хотя по содержанию она является для меня некоторым подведением итогов в области философии, но в выполнении на ней лежит печать внешних условий (о которых можно было бы многое рассказать, если бы это было здесь уместно), и особенно отразилась недостаточность литературы. Тем не менее оставляю ее в первоначальном виде, с внешней лишь корректурой. Внутренняя тема ее - общая и с более ранними моими работами (в частности, "Свет Невечерний") - о природе отношений между философией и религией, или о религиозно-интуитивных основах всякого философствования. Эта связь, которая для меня и ранее неизменно намечалась в общих очертаниях, здесь раскрывается более конкретно, и история новейшей философии предстает в своем подлинном религиозном естестве, как христианская ересеология, а постольку и как трагедия мысли, не находящей для себя исхода. Различаясь по материалу и форме, как относящаяся к другой исторической эпохе, настоящая работа в сущности посвящена тому же самому предмету и примыкает к тому же ряду, что и св. Иринея, еп. Лионского "Против ересей", св. Афанасия Александрийского "Против язычников" и под. Догмат христианский как не только критерий, но и мера истинности философских построений - таков имманентный суд над философией, которым она сама себя судит в своей истории и в свете которого, по слову Гегеля, die Weltgeschichte ist Weltgericht [1] .
1
Всемирная история есть всемирный суд (нем.).
Автор.
Прага. Март 1925 года.
Очерк первый. ТИПЫ ФИЛОСОФСКИХ ПОСТРОЕНИЙ
Глава первая.
О ПРИРОДЕ МЫСЛИ
Существует естественная проблематика
И прежде всего возникает вопрос: возможна ли вообще такая монистическая система мира? Возможна ли абсолютная философия? И на чем основана такая вера разума и в свои силы, и в правильность самой своей задачи? На этот вопрос чаще всего отвечают в духе скептицизма, релятивизма, беспардонного остроумничанья `a la Пилат Понтийский: что есть истина? Но не говоря уже о том, что и скептицизм есть также своего рода абсолютная философия, на весьма многое притязающая, он противоречит самосознанию разума, его серьезности, настойчивости и неотступности, или, лучше скажем, его неизбежной проблематике. Разум не может быть поражен скептическим гниением, ибо свои силы и свои стремления он сознает. Так велика его серьезность, что к ней не может найти доступа скептическое легкомыслие, и настоящий сознательный скептицизм есть вообще редкое явление в истории. Обычно же с ним смешивается разных оттенков релятивизм, т. е. первобытный, грубый научный догматизм, как нельзя более далекий от скептицизма (таков современный научный позитивизм). Разум пытает и не может не пытать новых взлетов, и, однако, каждый такой взлет неизбежно сопровождается и падением, и история философии есть не только рассказ об этих взлетах, но и скорбная повесть о неизбежных падениях и роковых неудачах. Пусть даже этих неудач не замечают сами творцы философских систем, себя истощившие на это усилие, остающиеся до конца жизни влюбленными в свою систему, как Шопенгауэр, и воображающие, что постигли самое Истину, как Гегель. Тем хуже для них, потому что история вдвойне клеймит эту их слепоту и обличает иллюзии. Да и как устоять пред лицом множественности систем, в то же время утверждая абсолютную ценность своей собственной? Клеймить ли соперников как идиотов и мошенников, что делал, например, Шопенгауэр? Но это слишком дешево и обличает разве только дурной вкус и злой характер. Или же истолковывать их как своих собственных предшественников, диалектически закономерных, но совершенно поглощающихся в абсолютной системе, как у Гегеля, так что вся история философии, в сущности, оказывается историей собственной философии Гегеля, диалектически развертывающейся? Это означает, без сомнения, снятие самого вопроса, но и над этим притязанием смеется дальнейшая история мысли. Каждая такая система хочет быть концом мира и завершением истории, которая, однако, все продолжается. Или нелепица, или недоношенность - таков приговор истории философии, начертываемый ею самою над всеми усилиями разума, подобно Хроносу, пожирающему своих детей. Зрелище безутешное! От него спасает разве только ученый педантизм, находящий вкус в коллекционировании и превращающий историю философии в музей, где собраны предметы редкости и умственного изящества. Однако, если мы вспомним, что в этой кунсткамере собраны не раковины и побрякушки, но достижения высших напряжений человеческого разума, то музейная точка зрения представится нам во всей своей неуместности и даже кощунственности.
История философии есть трагедия. Это - повесть о повторяющихся падениях Икара и о новых его взлетах. Эту трагическую сторону философии, которая есть и удел каждого мыслителя, остро чувствовали некоторые умы, как Гераклит и Платон. Кант подошел к самому краю бездны в своем учении об антиномиях и остановился. Сущность трагедии состоит в том, что человек страждет здесь не индивидуальной виной, и, даже будучи прав индивидуально и подчиняясь в своих требованиях велениям свыше, он в то же время закономерно гибнет. Философ не может не лететь, он должен подняться в эфир, но его крылья неизбежно растаивают от солнечной жары, и он падает и разбивается. Однако при этом взлете он нечто видит и об этом видении и рассказывает в своей философии. Настоящий мыслитель, так же как и настоящий поэт (что в конечном смысле одно и то же), никогда не врет, не сочиняет, он совершенно искренен и правдив, и, однако, удел его - падение. Ибо он восхотел системы: другими словами, он захотел создать (логически) мир из себя, из своего собственного принципа - "будете как боги" - но эта логическая дедукция мира невозможна для человека. И прежде всего по причинам, вне человеческой воли и способностей разума лежащим: мир неразумен в таком смысле, в каком хочет его постигать "дедуцирующая" философия, философская система как таковая, классическое и предельное выражение имеющая в Гегеле. Точнее, хотя в мире и царит разум, но нельзя сказать, что все действительное разумно, как думал это Гегель. Это не значит, что оно неразумно, а тем более противоразумно: действительное не только разумно, но и внеразумно, и разум вовсе не есть единственный, исчерпывающий и всесильный строитель мира, каковым его невольно исповедует всякая философская система, построяющая мир. В известном смысле разум имеет лишь рефлексию о мире, но он не есть его первоначало. Поэтому в постижении мира разум зависит от показаний бытия, от некоторого мистического и метафизического опыта, от чего, впрочем, в действительности и не отказывается философия, всегда ищущая обретения первоначала в созерцании, узрения его, открытия. И это открытие отнюдь не есть акт мысли, оно дается не мыслительным усилием, не цепью умозаключений, оно есть откровение самого мира в человеческом сознании, некое знание.
И немедленно возникает новый вопрос: знание сущего, как его самооткровение, загорается в разуме, но в состоянии ли разум освоить открывающееся и себе ассимилировать, связать его в единство, в систему? Что он это делает и не может этого не делать, это ясно само собою, такова его природа, "архитектонический его идеал", выражаясь языком Канта. Но если разум сам пуст и бессилен творить собою и из себя, то достаточно ли он силен, чтобы свести к единству, т. е. системе, все ему открывающееся? Очевидно, что, если мир, действительность, есть не одно только разумное бытие, хотя и открывающееся разуму, оно не может раскрыться до конца, оно остается навсегда только раскрывающимся, по существу будучи тайной, содержащей в себе источник нового познания и откровения, и внести свет разума во все тайники вселенной, упразднить всякую тайну, сделать ее прозрачной разуму, как мнил это Гегель, а в лице его и вся философия, невозможно. Единственный отсюда вывод - своеобразный эмпиризм, освобожденный от ограниченного и опошляющего истолкования, но взятый во всю глубину жизненного и мистического опыта. Эмпиризм есть настоящая гносеология жизни, откровения тайн, каковым всегда является познание действительности и мышление о ней. В то же время философия никогда не может оставаться голым эмпиризмом, который, впрочем, и не возможен, потому что разум постигает связь всего со всем, приводя множественность к единству, и наоборот. Итак, разум не может сам из себя начинаться и сам из себя порождать мысль, ибо она рождается тоже в сущем и относительно сущего, в самооткровении последнего; и в то же время он самоотчетен и самозаконен в своем пути и в своем деле.
Если разум есть не первое, а второе, не изначальное и не самопорождающееся, но возникающее и рождающееся в том, что онтологически первее разума, то и сила его соотносительна тому, в чем он рождается, что служит для него объектом его познания. Состояние разума, как и состояние мыслящего человека, может быть различно, имеет разные ступени. Ведь если в философии различается здравый смысл или обычный практический ум, далее рассудок и, наконец, разум (с особенной ясностью это различение сделано у Гегеля), то оказывается, что в самом разуме есть степени, и есть более и менее разумный разум: рассудок есть неразумный разум, мудрость которого является ограниченностью перед лицом разума, а в то же время он есть все-таки сила мысли, ума, одна и та же разумная стихия осуществляет себя и в разуме и в рассудке. Почему же не допустить еще и дальнейшего восхождения в заумные области, хотя бы теперь для него еще недостижимые и, однако, принципиально возможные и сверх того, по свидетельству христианских подвижников, им не недоступные? Иначе говоря, болезнь, порча, искажение всего человеческого существа, которым явился первородный грех, поражает и разум и делает для него невозможным, закрывая пламенным мечом Херувима - антиномиями, доступ к древу райского познания. И, во всяком случае, сама мудрость требует от разума самопознания, однако не в кантовском только смысле - разборки машины на отдельные части, чтобы их перечистить и снова собрать, но в смысле постижения реальных границ разума, которые должны быть осознаны, хотя бы разум и упирался в антиномии. Отсюда следует, что самое основное стремление разума - к логическому монизму, т. е. к логически связному и непрерывному истолкованию мира из одного начала, оказывается неосуществимым и абсолютная система философии невозможной. Это, конечно, не мешает тому, что если невозможна философия, то вполне возможно и необходимо философствование, и рефлектирующая, осмысливающая работа разума сохраняет отнюдь не меньшее значение, нежели
в неверной и, преувеличенной его самооценке.Разум, стремясь к монизму, к логическому созиданию мира из себя, фактически совершает акт произвола, избирая из доступных для него опытных начал то или иное и, таким образом, вступая на путь философской ереси (в вышеразъясненном смысле). Откровение о мире есть откровение Бога о себе самом. Религиозные догматы, "мифы" в смысле гносеологическом [2] , являются, вместе с тем, и проблемами для разума, которые он осваивает и осмысливает. Религиозная основа философствования есть факт, не подлежащий даже оспариванию, все равно, сознается он ею или не сознается. И в этом смысле история философии может быть показана и истолкована как религиозная ересеология. Философская характеристика ереси в истории христианского богословия состоит именно в том, что сложное, многомотивное, антиномическое для разума учение упрощается, приспособляется к постижению разума, рационализируется и тем самым извращается. Все основные ереси представляют собою подобный рационализм в применении к догматам. Рационализм, как такое злоупотребление разумом, имеет источником гордость разума, понимаемую не в смысле личной горделивости отдельных философов-ересеологов, но в объективном смысле - незнания им своей собственной природы, границ и состояния. Следовательно, на языке современной философии можно сказать, что философствующие ересеологи повинны в догматизме, в отсутствии критического осознания границ разума.
2
Ср. мой "Свет Невечерний", введение.
Есть три основных самоопределения мысли, образующих для нее исход и определяющих ее ориентацию, по этим трем рубежам разделяются все философские системы с их основными началами: 1) ипостась или личность; 2) идея ее или идеальный образ, логос, смысл; 3) субстанциальное бытие как единство всех моментов или положений бытия, как реализующееся все. Я есмь Нечто (потенциально все) - эта формула, выражающая суждение, содержит в себе в сокращенном виде не только схему сущего, но потому и схему истории философии. Эту трехчленную формулу, содержащую в себе логическое триединство и тройственность моментов связывающую в нераздельность и несекомость, непрестанно в разных направлениях рассекает философствующая и в произвольности этого рассечения и избрания отдельных начал еретичествующая мысль, и способом этого рассечения определяется стиль философствования. В основе самосознания, так же как и всякого акта мысли, его запечатлевающего, лежит тройственность моментов, триединство, которое имеет выражение в простом суждения: я есмь А. Обобщая это в терминах логически-грамматических: подлежащее, сказуемое и связка, - можно сказать, что в основе самосознания лежит предложение. Дух есть живое, непрестанно реализующее себя предложение. Всякое подлежащее, "имя существительное" или заменяющее его слово, существует по образу и подобию местоимения первого лица, подлежащего (субъекта) по преимуществу: оно дробится и множится в бесчисленных зеркальных повторениях [3] . Местоимение первого лица, словесный мистический жест, имеет совершенно единственную в своем роде природу и является основой всякой вещи как имени существительного. Каждое предложение можно привести к типу соединения Я с его сказуемым, даже можно сказать, что оно, имея истинным подлежащим Я, является, все целиком, сказуемым этого Я, ибо по отношению к Я все, весь смысл есть сказуемое, и каждое суждение есть новое и новое самоопределение Я если не по форме, то по существу. Каждое суждение онтологически приводится к общему отношению субъекта и объекта, которые суть не что иное, как я, ипостась, и его природа, раскрывающая его содержание, его сказуемое, оно же приводится в связь с подлежащим связкою бытия. В форме суждения тайна и природа мысли, ключ к уразумению философских построений. Я, самозамкнутое, находящееся на неприступном острове, к которому не досягает никакое мышление или бытие, находит в себе некоторый образ бытия, высказывается в "сказуемом" и этот образ познает как свое собственное порождение, самораскрытие, каковое и есть связка. В этом смысле вся наша жизнь, а потому и все наше мышление является непрерывно осуществляющимся предложением, есть предложение, состоящее из подлежащего, сказуемого и связки. Но именно потому на предложении, или суждении как всеобщей и само собою подразумевающейся форме мысли, менее всего останавливалась философия (и только по-своему, в ограниченной постановке вопроса, останавливались логика и грамматика). Не заметила суждения-предложения и его универсального значения и критика Канта. В предложении заключена сущность и образ бытия, предложение несет в себе его тайну, ибо в нем сокрыт образ троичности. По свидетельству предложения, сущностное отношение противится всякому монизму, философии тожества, которое стремится растворить все три его члена, сведя их к одному: либо к подлежащему, либо к сказуемому, либо к связке. Таким стремлением руководится всякая философская система, поскольку она есть философия тожества: либо подлежащее, либо связку, либо сказуемое объявляет она единственным началом и из него все выводит или к нему все приводит. Такая "дедукция" либо подлежащего из сказуемого, либо наоборот, либо того и другого из связки фактически и представляет собой главную задачу, а вместе и неразрешимую трудность для философствующей мысли, которая стремится к монизму, к сведению всего во что бы то ни стало к первоединству. Изначальное и исходное единство, отрицающее тройственную природу предложения, таков корень всякой философской системы и ее трагедии. Это единство есть не только постулат, но и исходная аксиома для мысли, и эта аксиома лежит в основе всей истории философии.
3
Основные положения о слове, сюда относящиеся, развиты мною в сочинении "К философии имени" (рукописное).
Между тем эта аксиома неверна, а потому и все усилия философии тщетны и не могут не представлять собою ряда трагических неудач, притом типического характера: солнечный жар неизбежно растопляет склеенные воском крылья Икара, в каком бы направлении он ни летел. Ибо, как свидетельствует форма предложения-суждения, отражающая на себе самое строение сущего, основа сущего не единична, но тройственна во единстве, триедина, и ложный монизм, притязание философии тожества, есть заблуждение, [4] философии. Субстанция едина, но тройственна, и этой сопряженности единства и множества ее моментов ничто не может преодолеть, а потому и не должно к тому стремиться. Ипостась, лицо, я, существует, имея свою природу, т. е. постоянно сказуемое и никогда до конца не изрекаемое свое откровение, которое она и осуществляет как свое собственное бытие (в разных его оттенках или модальностях). "Субстанция" существует не только "по себе", как подлежащее, но и "для себя", как сказуемое, и притом "по себе и для себя", в связке, как бытие. И эти три начала вовсе не суть лишь диалектические моменты одного, друг друга снимающие и упраздняющиеся в синтезе, нет, это суть три одновременно и равноправно существующие, как бы корни бытия, в своей совокупности являющие жизнь субстанции.
4
Первичная ложь (греч.
Ипостасное я неопределимо по самому своему существу. Будучи я, ипостасью, каждый знает, о чем идет речь, хотя это и неизреченно (а только изрекаемо). Именно самая сущность ипостаси состоит в том, что она неопределима, неописуема, стоит за пределами слова и понятия, а потому и не может быть выражена в них, хотя и постоянно в них раскрывается. Пред лицом Ипостаси приличествует молчание, возможен только немой мистический жест, который уже вторичным, рефлективным актом - не именуется, но "вместо имени" обозначается "местоимением", я [5] . Неопределимость эта не есть, однако, пустота, логический нуль, напротив, ипостась есть предпосылка логического, субъект мысли. Ошибочно думать, что мысль стоит на своих ногах, держится на себе самой: она возникает и существует в том, что не есть мысль, но вместе с тем не является чуждым, иноприродным мысли, в чем рождается мысль и что она непрерывно собой обвивает. Если где уместно и применимо кантовское различение ноуменов и феноменов, то именно здесь, при характеристике взаимных отношений ипостаси и ее природы, субъекта и объекта, подлежащего и сказуемого. Ибо я, ипостась, есть поистине вещь в себе, ноумен, и она, т. е. сам дух, навеки остается трансцендентна мысли по своей природе, положению и отношению к ней. Но трансцендентное всегда и неразрывно связано с имманентным, имманентируется; подлежащее, ипостась, всегда открывается, высказывается в сказуемом. Само собою разумеется, ипостась в этом смысле не есть психологическое я, психологическая субъективность, которая является уже определением ипостаси, сказуемым, а не подлежащим: дух не психологичен, и ипостась ни в каком смысле не является психологизмом. Ипостась не есть даже и то гносеологическое я, которое знает Кант как единство трансцендентальной апперцепции. И это есть лишь оболочка я, его "трансцендентальное" сказуемое, и ошибочно думать, чтобы неизмеримая глубина ипостасного духа сводилась к этой световой точке, к факелу познающего сознания. Об этом свидетельствует уже одно то, Кантом за всеми его критиками просмотренное обстоятельство, что я ипостасное, ноуменальное, есть неразложимое единство, осуществляющееся не только в познании, но и воле, чувстве, действии, во всей жизни. Оно связует собой "чистый", "практический" и эстетизирующий (оценивающий) разум. Ипостасное я есть живой дух (что есть, впрочем, синоним), и его сила жизни неисчерпаема ни в каком определении. Он являет себя во времени, но сам не только превыше времени, но и самой временности. Для ипостаси не существует возникновения и гибели, начала или конца. Вневременная, она вместе и сверхвременна, ей принадлежит вечность, она вечна так же и в том же смысле, как вечен Бог, который Сам вдунул, из Себя, Дух Свой в человека при его создании. Человек есть сын Божий и тварный бог, и образ вечности присущ ему неотъемлемо и неотторжимо. Поэтому человек не может ни помыслить, ни пожелать своего уничтожения, т. е. угашения я (и все попытки самоубийства представляют собой род философского недоразумения и относятся не к самому я, но лишь к образу его существования, не к подлежащему, но к сказуемому). Ипостасное Я есть Субъект, Подлежащее всяких сказуемых, его жизнь есть это сказуемое, бесконечное и в ширину и в глубину.
5
Подробнее об этом в названном сочинении об имени.
Но не вводится ли здесь в метафизику, в качестве начала основоположного, то, что не может быть никак определено, являясь принципиально трансцендентным для мысли, не содержится ли здесь недоразумения, ошибки, нелепости? Как мыслить немыслимое? Как высказывать неизреченное? Разве словесно-мистический жест местоимения есть слово? Или разве я есть понятие, когда оно своей единственностью и единичностью уничтожает всякое понятие, т. е. общее, идею? Вообще, не встречаемся ли здесь с таким строгим критическим veto, которого может не устрашиться разве только полная философская наивность?