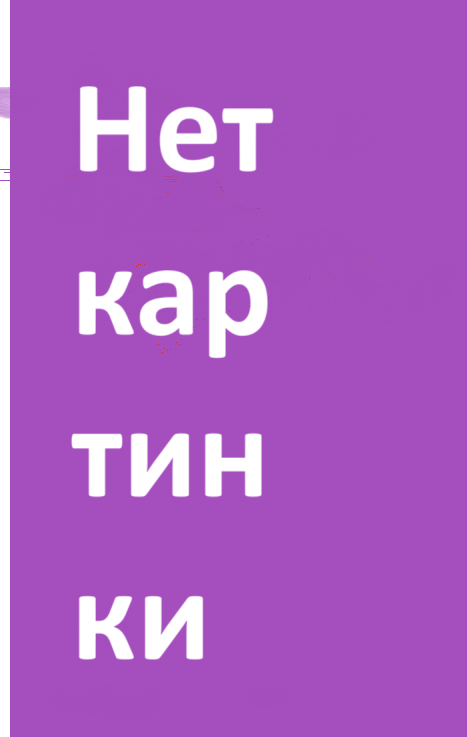Шрифт:
Светлана АлексиевичУ войны не женское лицо
– Когда впервые в истории женщины появились в армии?
– Уже в IV веке до нашей эры в Афинах и Спарте в греческих войсках воевали женщины. Позже они участвовали в походах Александра Македонского.
Русский историк Николай Карамзин писал о наших предках: «Славянки ходили иногда на войну с отцами и супругами, не боясь смерти: так при осаде Константинополя в 626 году греки нашли между убитыми славянами многие женские трупы. Мать, воспитывая детей, готовила их быть воинами».
– А в Новое время?
– Впервые – в Англии в 1560—1650-е годы стали формировать госпитали, в которых служили женщины-солдаты.
– Что произошло в ХХ веке?
– Начало века... В Первую мировую войну в Англии женщин уже
В России, Германии, Франции многие женщины тоже стали служить в военных госпиталях и санитарных поездах.
А во время Второй мировой войны мир стал свидетелем женского феномена. Женщины служили во всех родах войск уже во многих странах мира: в английской армии – 225 тысяч, в американской – 450—500 тысяч, в германской – 500 тысяч...
В Советской армии воевало около миллиона женщин. Они овладели всеми военными специальностями, в том числе и самыми «мужскими». Даже возникла языковая проблема: у слов «танкист», «пехотинец», «автоматчик» до того времени не существовало женского рода, потому что эту работу еще никогда не делала женщина. Женские слова родились там, на войне...
Из разговора с историкомЧеловек больше войны(из дневника книги)
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в темноте...
Осип Мандельштам1978—1985 гг.
Пишу книгу о войне...
Я, которая не любила читать военные книги, хотя в моем детстве и юности у всех это было любимое чтение. У всех моих сверстников. И это неудивительно – мы были дети Победы. Дети победителей. Первое, что я помню о войне? Свою детскую тоску среди непонятных и пугающих слов. О войне вспоминали всегда: в школе и дома, на свадьбах и крестинах, в праздники и на поминках. Даже в детских разговорах. Соседский мальчик однажды спросил меня: «А что делают под землей эти люди? После войны их там больше, чем на земле». Нам тоже хотелось разгадать тайну войны.
Тогда и задумалась о смерти... И уже никогда не переставала о ней думать, для меня она стала главной тайной жизни.
Все для нас вело начало из того страшного и таинственного мира. В нашей семье украинский дедушка, мамин отец, погиб на фронте, похоронен где-то в венгерской земле, а белорусская бабушка, папина мама, умерла от тифа в партизанах, двое ее сыновей служили в армии и пропали без вести в первые месяцы войны, из троих вернулся один. Мой отец. Так было в каждом доме. У всех. Нельзя было не думать о смерти. Везде ходили тени...
Деревенские мальчишки долго еще играли в «немцев» и «русских». Кричали немецкие слова: «Хенде хох!», «Цурюк», «Гитлер капут!».
Мы не знали мира без войны, мир войны был единственно знакомым нам миром, а люди войны – единственно знакомыми нам людьми. Я и сейчас не знаю другого мира и других людей. А были ли они когда-нибудь?
* * *
Деревня моего детства после войны была женская. Бабья. Мужских голосов не помню. Так у меня это и осталось: о войне рассказывают бабы. Плачут. Поют, как плачут.
В школьной библиотеке – половина книг о войне. И в сельской, и в райцентре, куда отец часто ездил за книгами. Теперь у меня есть ответ – почему. Разве случайно? Мы все время воевали или готовились к войне. Вспоминали о том, как воевали. Никогда не жили иначе, наверное, и не умеем. Не представляем, как жить по-другому, этому нам надо будет когда-нибудь долго учиться.
В школе нас учили любить смерть. Мы писали сочинения о том, как хотели бы умереть во имя... Мечтали...
А голоса на улице кричали о другом, манили больше.
Я долго была книжным человеком, которого реальность пугала и притягивала. От незнания жизни появилось бесстрашие. Теперь думаю: будь я более реальным человеком, могла бы кинуться в такую бездну? От чего все это было – от незнания? Или от чувства пути? Ведь чувство пути есть...
Долго искала... Какими словами можно передать то, что я слышу? Искала жанр, который бы отвечал тому, как вижу мир, как устроен мой глаз, мое ухо.
Однажды
попала в руки книга «Я – из огненной деревни» А. Адамовича, Я. Брыля, В. Колесника. Такое потрясение испытала лишь однажды, читая Достоевского. А тут – необычная форма: роман собран из голосов самой жизни. Из того, что я слышала в детстве, из того, что сейчас звучит на улице, дома, в кафе, в троллейбусе. Так! Круг замкнулся. Я нашла то, что искала. Предчувствовала.Алесь Адамович стал моим учителем...
* * *
Два года не столько встречалась и записывала, сколько думала. Читала. О чем будет моя книга? Ну, еще одна книга о войне... Зачем? Уже были тысячи войн – маленькие и большие, известные и неизвестные. А написано о них еще больше. Но... Писали мужчины и о мужчинах – это стало понятно сразу. Все, что нам известно о войне, известно с «мужского голоса». Мы все в плену «мужских» представлений и «мужских» ощущений войны. «Мужских» слов. А женщины молчат. Никто же, кроме меня, не расспрашивал мою бабушку. Мою маму. Молчат даже те, кто был на фронте. Если вдруг начинают говорить, то рассказывают не свою войну, а чужую. Другую. Подстраиваются под мужской канон. И только дома или когда всплакнут в кругу фронтовых подруг, они вспоминают войну (в своих журналистских поездках не раз слышала), которая мне совершенно незнакома. Как и в детстве, я потрясена. В их рассказах проглядывает чудовищный оскал таинственного... Когда женщины говорят, у них нет или почти нет того, о чем мы привыкли читать и слышать: как одни люди героически убивали других и победили. Или проиграли. Какая была техника – какие генералы. Женские рассказы другие и о другом. У «женской» войны свои краски, свои запахи, свое освещение и свое пространство чувств. Свои слова. Там нет героев и невероятных подвигов, там есть просто люди, которые заняты нечеловеческим человеческим делом. И страдают там не только они (люди!), но и земля, и птицы, и деревья. Все, кто живут вместе с нами на земле. Страдают они без слов, что еще страшнее...
Но – почему? – не раз спрашивала я у себя. – Почему, отстояв и заняв свое место в когда-то абсолютно мужском мире, женщины не отстояли свою историю? Свои слова и свои чувства? Не поверили сами себе. От нас скрыт целый мир. Их война осталась неизвестной...
Хочу написать историю этой войны. Женскую историю.
* * *
С первых записей...
Удивление: военные профессии у этих женщин – санинструктор, снайпер, пулеметчица, командир зенитного орудия, сапер, а сейчас они – бухгалтеры, лаборантки, экскурсоводы, учительницы... Несовпадение ролей – там и здесь. Рассказывают, как будто не о себе, а о каких-то других девчонках. Сегодня сами себе удивляются. И на моих глазах «очеловечивается» история, становится похожей на обычную жизнь. Появляется другое освещение.
Встречаются потрясающие рассказчицы, у них в жизни есть страницы, которые могут соперничать с лучшими страницами классики. Чтобы человек так ясно увидел себя сверху – с неба, и снизу – с земли. Прошел путь вверх и путь вниз – от ангела к зверю. Воспоминания – это не страстный или бесстрастный пересказ исчезнувшей реальности, а новое рождение прошлого, когда время поворачивается вспять. Прежде всего это – творчество. Рассказывая, люди творят, «пишут» свою жизнь. Бывает, что и «дописывают» и «переписывают». Тут надо быть начеку. На страже. В то же время любая фальшь постепенно самоуничтожается, не выдерживает соседства столь обнаженной истины. Вирус этот тут не живуч. Слишком высокая температура! Искреннее, как я уже успела заметить, ведут себя простые люди – медсестры, повара, прачки... Они, как бы это точнее определить, из себя достают слова, а не из газет и прочитанных книг. Из чужого. А только из своих собственных страданий и переживаний. Чувства и язык образованных людей, как это ни странно, часто больше подвержены обработке временем. Его общей шифровке. Заражены чужим знанием. Общим духом. Часто приходится долго идти, разными кругами, чтобы услышать рассказ о «женской» войне, а не о «мужской»: как отступали, наступали, на каком участке фронта... Требуется не одна встреча, а много сеансов. Как настойчивому портретисту.